Делать это предполагается, как обычно, благими намерениями: унифицировать выплаты, упростить правила, приблизить всех к светлому будущему электронной отчетности. Но, как это нередко бывает, чем глубже пытаешься вникнуть, тем больше понимаешь, что реформа заложена на довольно хрупком фундаменте.
Главное — всё зарегулировать
Безусловно, реформа самозанятости могла бы стать шагом в сторону цивилизованного рынка труда. Но любое изменение, которое создает разные правила для разных людей без ясных объяснений, неизбежно запускает механизмы недоверия.
Итак, со следующего года большинство самозанятых переводят на режим налоговой ставки 4 процента от дохода. При этом часть самозанятых получит ставку 3 процента — по возрастному признаку. А именно: те, кто младше 50 лет, будут платить больше, а те, кто старше, — меньше. Справедливость своеобразная, и объяснить её логикой непросто. Молодые видят в этом налоговый возрастной барьер, старшие — очередной намек, что государство хочет одновременно и помочь им, и сэкономить на их будущей пенсии.
Добавим к этому тот факт, что льготный режим распространяется лишь на 49 видов деятельности, тщательно отобранных чиновниками. Предполагается, что это будет деятельность по пастбищному животноводству, штукатурные работы, производство музыкальных инструментов, такси, розничная торговля, сетевой маркетинг, доставка готовой пищи, ветеринарная деятельность, аренда разного рода, все виды ремонта (впрочем, об этом ниже).
Но получается, что в итоге среди самозанятых появится некая форма кастовости: с одной стороны, будут граждане, “достойные льгот”, а с другой — “самостоятельные выживальщики”.
Вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН на недавнем заседании круглого стола комитета сената по финансам и бюджету попытался вроде бы внести ясность, но ещё больше все запутал.
- Речь идёт о физлицах, подчеркиваю, которые работают и оказывают услуги другим физлицам, причём делают это без наемных работников, — сказал он. — Это ключевое условие для работы.
Какова в таком случае роль того самого списка определенных видов деятельности, если “оказание услуг без использования труда наемных работников” — вполне лаконичная и самодостаточная формулировка?
Но настоящие вопросы начинают всплывать не в презентациях, а в реальной жизни — там, где самозанятые сталкиваются с практическими ситуациями.
Можно ли принимать оплату наличными?
Самозанятые спрашивают об этом с осторожностью, потому что знают: именно тут начинается тонкая грань между легальным доходом и тем, что Минфин называет “неучтенным оборотом”.
В комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов на запрос “Времени” ответили, что согласно Налоговому кодексу “физическое лицо — самозанятый вправе принимать платежи за оказанные услуги и выполненные работы как в наличной, так и в безналичной форме”.
Однако, как подчеркнули в ведомстве, самозанятые применяют специальный налоговый режим (СНР) с обязательным использованием специального мобильного приложения. В нём документом, подтверждающим факт осуществления расчетов между лицами, применяющими СНР для самозанятых, и получателем работ либо услуг, является чек, который выдается налогоплательщиком в момент расчета наличными деньгами.
Иными словами, с точки зрения закона самозанятый может принимать оплату наличными. Никто не запрещает клиенту дать деньги в руки. Но есть нюанс — тот самый из серии “по документам одно, а по жизни другое”.
Чтобы платеж считался официальным доходом, самозанятый обязан его отразить в приложении е-Salyq Business. Неважно, наличные это или перевод, главное, чтобы в системе появилась запись. Это превращает процесс заработка в игру на доверие: система фактически перекладывает ответственность за “легальность” дохода на самого исполнителя. Захотел — внес. Не внес — твоя вина, твой риск, твой штраф.
Считается ли легальной работа для родственников?
Ещё один вопрос, который сложнее, чем кажется на первый взгляд. Может ли самозанятый официально выполнить услугу для родственника, живущего отдельно?
Ответ КГД короткий: Налоговым кодексом не запрещается оказание услуг близким родственникам…
Если работа выполняется за оплату и доход отражен в системе, то с точки зрения государства это такая же услуга, как ремонт обуви соседу или доставка продуктов постороннему человеку.
Но, как водится, есть примечание мелким шрифтом: такая деятельность должна находиться в рамках разрешенных видов самозанятости.
Вот парадокс: если человек официально занимается уборкой квартир, то в теории он может убрать и квартиру собственной бабушки — и это будет легально. Но если он, например, не ремонтирует, а шьёт одежду, то услуга родному брату автоматически теряет официальный статус, даже если фактически это та самая самозанятость, о которой идёт речь.
И здесь прячется ещё одна потенциальная точка напряжения: люди не понимают, почему помощь родственнику, за которую они получают деньги, должна как-то зависеть от списка кодов, составленного чиновниками. А когда закон выглядит нелогичным, его обычно соблюдают ровно настолько, насколько вынуждает жизнь.
Формально работа есть работа, если за неё заплатили и если она отражена на официальном уровне. Теоретически уборка квартиры дядюшки или ремонт одежды тетушки подлежит той же учётной процедуре. Но вот парадокс: чем ближе отношения между людьми, тем более нелепо выглядит попытка подвести их под налоговую схему.
В бытовой логике семьи такая услуга — акт взаимопомощи. В логике государства — повод для проверки. И государство будто забывает, что самозанятость часто возникает как форма выживания, а не как бизнес-модель.
Существует ли вообще перечень разрешённых работ и услуг для самозанятых?
Вроде бы тут и спрашивать не о чём, поскольку ещё в сентябре Министерство нацэкономики представило проекты постановлений правительства с перечислением сфер деятельности, по которым запрещено и разрешено применение специального налогового режима. В том числе и перечень видов деятельности, по которым разрешено применение СНР для самозанятых.
Но и тут есть нюанс, да ещё какой!
Все эти проекты не утверждены, а лишь вынесены на обсуждение.
“Перечень видов деятельности, по которым разрешается применение СНР для самозанятых, утверждается постановлением правительства Республики Казахстан, разработчиком которого является Министерство национальной экономики Республики Казахстан, и на сегодняшний день данный перечень видов деятельности находится в разработке”, — сообщили нам в комитете госдоходов.
Так что ясно, что пока ещё ничего не ясно.
До начала действия нового налогового режима остается чуть больше месяца, а вопросов к нему пока больше, чем воодушевляющих ответов.
Если сложить все вместе — возрастные различия, ограниченные и пока гипотетические списки профессий, сложности с фиксацией доходов, вопросы с наличкой и родственниками, картинка вырисовывается не очень чёткая.
Впрочем, понятно, что с 1 января 2026 года самозанятые могут начать ощущать: неравенство условий, когда одни платят меньше только из-за года рождения; неопределенность, потому что любая бытовая услуга может внезапно оказаться вне утверждённого перечня; недоверие, ведь система разрешает наличные, но фактически делает их подозрительными; перегрузку бюрократией, которая перекладывает ответственность за точность учета на человека, работающего руками, а не отчетами…
В таких условиях обычно растёт не налоговая база, а раздражение.
Главное здесь то, что государство не просто меняет правила, а меняет социальный контракт. Самозанятым предлагают выйти из тени, но при этом подают им сигналы, которые выглядят как предупреждение: “Мы будем следить за каждым тенге дохода”. Тон этого сигнала мягкий, но настойчивый.
Взять хотя бы момент с оплатой наличными. Формально можно. Неважно, перевод или купюры: доход считается доходом, если самозанятый внес его в приложение. Но сам этот механизм создает ловушку. Государство хочет видеть все платежи, но не обеспечивает условий, при которых фиксировать их удобно и безопасно.
По сути, самозанятому говорят: “Мы верим тебе настолько, насколько ты успеваешь нажимать нужные кнопки в нужном приложении”. Удобно ли это? Удобно прежде всего государству. Самому работнику — только при идеальном техническом исполнении. А жизнь редко бывает идеальной.
Все эти элементы складываются в одну общую тенденцию: государство вводит правила, не учитывая культурных, социальных и психологических особенностей самозанятости как явления. Оно по-прежнему мыслит категориями контроля и учета, тогда как самозанятые живут категориями спроса, доверия и личного удобства.
Если государство хочет реальной легализации, а не статистической, ему стоит задуматься: все ли реформы должны строиться на контроле?
Владислав ШПАКОВ, Астана
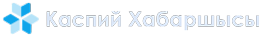
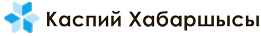

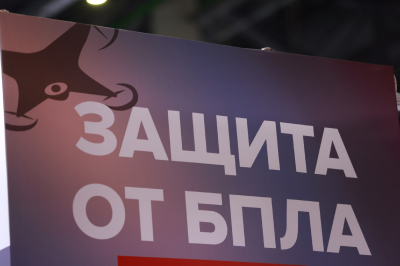

Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 24 февраля в Минске
Снежная буря парализовала северо-восток США: закрыты школы, отменены тысячи рейсов
Бананы и лепешки роти — все, что нужно для сладкого завтрака: рецепт лакомства к чаю и кофе
Натуральные маски: золотое правило «не передержать»
«Анализы в норме» — и человек на кладбище. Врачи раскрыли страшную правду о лабораторных бланках