Ноябрьские президентские перевыборы давно прошли, наступил уже новый, 2023 год, а предвыборная президентская программа осталась. И будет оставаться с нами все следующие семь лет президентского срока — так в ней самой сказано. Ещё бы, ведь провозглашенное президентом кардинальное изменение модели развития и строительство справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества — дело объективно нескорое. Если нам удастся по ходу предстоящих парламентских выборов и последующего формирования обновлённого правительства хотя бы задать правильные темп и направление, не жалко было бы потратить на это не только текущий, но и следующий президентский срок.
Кстати, о правительстве: мы ведь с вами хорошо понимаем, что все обещанное главой государства народу будет исполнять (либо не исполнять) именно оно. В этом смысле президентская программа является и правительственной. Более того, президентское целеполагание в сторону справедливого государства сопровождено уже теми механизмами, которые выработаны не главой государства, а в правительственном и президентском аппаратах. А потому по ходу обновления исполнительского аппарата президентское устремление к справедливости будет не раз ещё корректироваться и дополняться.
Вот, например, ключевое место президентской программы насчет “ловушки бедности”, в которую граждан загнала “недобросовестная деятельность монополистов”: “Государство покончит с монополиями и обеспечит справедливое распределение доходов” — мы с вами голосовали на выборах именно за это, да и теперь обеими руками за!
Да, вытаскивать практически все население из “ловушки бедности” — это важнейшая задача правительства, не только социальная, но и чисто экономическая, ведь все то, что производится в экономике Казахстана (за исключением добычи сырья на вывоз), в конечном счёте потребляется населением, а потому низкая покупательная способность есть первый и главный тормоз развития любых внутренних производств.
Разрез же по покупательной способности даёт беспристрастная статистика. Пока самые свежие данные за третий квартал 2022 года: среднедушевые денежные доходы населения (в пересчете на месяц) — 82 тысячи тенге, в том числе 60 тысяч — доходы от трудовой деятельности, включая работу по найму, самозанятость и индивидуальное предпринимательство, и 18 тысяч тенге — социальные трансферты, включая пенсии, все виды пособий, адресной социальной и жилищной помощи, а также стипендий.
Теперь по расходам: в среднем это по 79 тысяч тенге в месяц. То есть казахстанцы живут “с колес”: тут же тратят почти все получаемое. В накопления в среднем по стране, включая самых обеспеченных, откладывается лишь по 3 тысячи тенге в месяц, или 36 тысяч за весь год, — мизер. Структура основных расходов: 40 тысяч тенге (51 процент) — питание, 13 тысяч (17 процентов) — ЖКХ и другие услуги и 4 тысячи тенге (6 процентов) — расчеты по кредитам. Итого почти три четверти (74 процента) расходов семейного бюджета уходят на то, чтобы поесть, заплатить за свет, тепло и воду и рассчитаться с банком.
Это не ловушка бедности, а засасывающая яма, в которую рискует обвалиться вся социально-экономическая и политическая стабильность в нашей стране.
И это при том, что сам Казахстан — страна отнюдь не бедная. По итогам 2022 года наш ВВП выйдет круглым счетом на 200 млрд долларов, что почти для 20-миллионной статистической численности даёт примерно по 10 тысяч долларов на душу населения, — вполне приличный показатель для группы среднеразвитых государств. Кстати сказать, в майданном 2013 году, когда и произошел сдвиг прежнего мироустройства, подушевой ВВП Казахстана достигал даже 13,8 тысячи долларов, то есть “вывозная” экономическая модель с тех пор идёт не в рост, а на затухание. Но это тема для отдельного разговора, мы же идём по следу загнавших нас в “ловушку бедности” монополистов, и вот он — этот след!
Считаем: 82 тысячи тенге на казахстанца в месяц — это чуть менее миллиона в год, или примерно 2,1 тысячи долларов по курсу. А подушевой ВВП — 10 тысяч долларов! То есть самим казахстанцам от их же национального валового продукта достается “на мелкие расходы” чуть больше одной пятой. А почти четыре пятых, получается, у клятых монополистов.
Выслеживаем злодеев дальше, для чего Нацбюро по статистике даёт нам ещё один инструмент: структуру ВВП по доходам. Смысл: ВВП — это суммарная стоимость всего произведенного в данной экономике конечного продукта. Она же суммарная стоимость всего в этой экономике потребленного, ВВП так и считают — методом производства или методом потребления. А есть и третий метод — через доходы: кто какую часть национального продукта способен приобрести на то, что получает. Так вот за тот же третий квартал 2022 года официально так: оплата труда — 30 процентов, налоги (бюджет) — 8 процентов, валовая прибыль — 62 процента.
Статистика, получается, наука не совсем точная: по этому раскладу казахстанцам достается почти одна треть, а не одна пятая. Но даже треть от национального продукта, приходящаяся на всех граждан, — это все равно вопиюще мало! А почти две трети монополистам — недопустимо много.
Таким образом, тезис из предвыборной программы “олигополистический капитализм в Казахстане породил социальное неравенство и дисбаланс внутреннего рынка” есть руководящее указание для правительства. Все силы должны быть брошены, чтобы выявить эти олигополии и покончить с ними!
Но тут вот какая незадача: в поисках зловредных олигополий мы сразу же начнём натыкаться на… монополии, по своей сути естественные. Возьмём, например, многострадальную электро- и теплоэнергетику: объективно это главная естественная монополия национального уровня, в которой должны царить государственная организующая воля, единая тарифная и инвестиционная политика. На самом же деле государство ещё два десятилетия назад разодрало национальную энергосистему на набор частных олигополий, и теперь правительство то ли не может, то ли не хочет посягать на олигополистические интересы.
Или возьмём снабжение Казахстана ГСМ: по сути, все три НПЗ вместе с системами подачи на них нефти и вместе с региональными терминалами нефтепродуктов и транспортными сетями — это тоже естественные монополии как в технологическом, так и в географическом смысле. Но и это отдано на откуп частным олигополиям.
И вообще, какую рыночную нишу в Казахстане ни возьми, везде (кроме салонов красоты, автомоек, кафе и ресторанов) объективно скудное поле для полноценной конкуренции: очень небольшое количество относительно небольших городов, разделенных гигантскими расстояниями. Если уж совсем откровенно, то работающие на внутреннем рынке энергетические, коммунальные, топливные, транспортные и торговые монополии, во многом определяющие жизнь казахстанцев и опирающиеся на платежеспособность населения, сами загнаны в “ловушку бедности”. Хотя и не их богатеющие хозяева.
Вопрос стоит просто: либо государство возвращается в эти сферы и берет на себя ответственность за стабильные тарифы и полноценные инвестиции, либо… оно и есть крыша для олигополий. Нынешнее правительство, связывающее “ловушку бедности” с деятельностью “недобросовестных монополистов”, по лукавству или непониманию уводит нас прочь от проблемы. На самом деле вот это, подтверждаемое даже статистикой, совершенно бессовестное вытягивание двух третей национального дохода у казахстанцев касается экспортно-сырьевого сектора, конкретно — “нефтянки”, принадлежащей, как известно, транснациональным компаниям со всех сторон света.
Они и есть настоящие олигополии, выводящие прибыль из национальной экономики. Поэтому лишь серьёзным разговором с пользователями казахстанских недр (с недавних пор принадлежащих народу) только и может быть найден выход из “ловушки бедности”.
Пётр СВОИК, фото Владимира ЗАИКИНА, Алматы
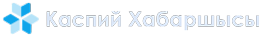
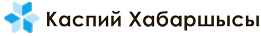






График вакцинации изменят в Казахстане
Народный репортер. Колодцы не утопили в асфальт, еще и люки не закрыли
Перед автовокзалом благоустраивают территорию
Токсичные миллионы: «Тенгизшевройл» оштрафован на 639 млн за вредные выбросы
Акции компаний из сферы здравоохранения взлетели в индексе S&P500 – обзор